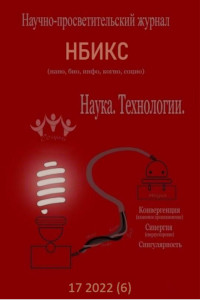Академик Анциферов: Нанотехнологиями в области электроники и биологии в крае почти никто не занимается...
Друзья, с момента основания проекта прошло уже 20 лет и мы рады сообщать вам, что сайт, наконец, переехали на новую платформу.
Какое-то время продолжим трудится на общее благо по адресу
На новой платформе мы уделили особое внимание удобству поиска материалов.
Особенно рекомендуем познакомиться с работой рубрикатора.
Спасибо, ждём вас на N-N-N.ru
За науку обидно
Академик Анциферов свидетельствует
Несмотря на то, что центр порошкового металловедения Пермского государственного технического университета, возглавляемый академиком Владимиром Анциферовым, прячется в густом сосновом бору в районе Студгородка около Перми, он так известен в определенных кругах по всему миру, что при покупке импортного оборудования Анциферову до сих пор приходится подписывать обязательства не использовать приобретаемые установки для исследований в области оружия массового уничтожения.

Владимир Анциферов
- Продают, кстати, не всегда. Однако слава секретной лаборатории, которой до 1992 года центр и являлся, теперь только мешает, поскольку былое госфинансирование осталось в туманном советском прошлом, а в нынешних условиях ученым приходится зарабатывать на фундаментальные исследования самостоятельно. Некоторые надежды Анциферов возлагал на часто декларируемое намерение перевести экономику Прикамья на инновационный путь развития, ведь его центр – одно из немногих мест в крае, где занимаются исследованиями в области нанотехнологий, но в последнее время не только у него появились на этот счет большие сомнения.
Нанотехнологиями в области электроники и биологии в крае почти никто не занимается, однако разработки нашего центра, я полагаю, позволяют достойно представлять край в этой области. Мы традиционно занимаемся материалами на металлической и неметаллической основе, керамикой и так далее.
- Зачем вообще нужно возиться с мельчайшими частицами? Как известно, чем меньше «зерно» материала, тем он прочней. Но не до бесконечности. Исследования показывают, что минимальный размер частиц не должен превышать порядка 20 нанометров. Обеспечить такую точность можно только на специальном оборудовании при строжайшем соблюдении всех условий технологического процесса. Зато в итоге материалы обретают поистине фантастические свойства.
Вот, например, циркониевая керамика. Мы много лет занимались ей как конструкционным материалом. Оксид циркония плавится при температуре 2800 градусов, применяется в специальной технике в качестве покрытия, но, поскольку производство спецтехники сократилось, мы стали искать другой путь его применения. И нашли… в стоматологии для изготовления зубных коронок. Исходные частички должны быть порядка 20–40 нанометров, потом мы подвергаем их прессованию и спеканию. Нужно получить такой процесс, чтобы спекание проходило без роста частиц, тогда керамика приобретает повышенные свойства. Коронками из оксида циркония можно жевать… ну, если не ножи и вилки, то уж орехи точно. Мы будем делать коронки из российского сырья, а наши партнеры из мединститута будут их устанавливать.
Это лишь один из примеров применения материала, который можно использовать и в авиации, и в ракетной технике: в топливорегулирующей аппаратуре, в различных насосах. И таких примеров можно привести множество.
Недавно вы стали лауреатом Строгановской премии, присуждаемой за прославление Пермского края в разных областях. Между тем, о порошковой металлургии, которой вы занимаетесь, в последние годы мало что слышно…
Да, в России за последние 15 лет объемы производства порошковых изделий резко упали. А ведь когда-то в Прикамье, например, на каждом крупном промышленном предприятии был участок порошковой металлургии! Хорошо знаю это, потому что в конце 80-х – начале 90-х годов возглавлял программу по порошковой металлургии для всей страны.
Однако во всем остальном мире картина иная. В развитых странах, несмотря на спады в экономике, производство порошковых изделий различного назначения никогда не снижалось. Ведь метод порошковой металлургии является одним из самых экономичных.
Он менее энергозатратен, чем литье, требует куда меньше ресурсов. Детали получаются с высокой точностью, в ряде случаев они вообще не нуждаются в доработке. Кроме того, это и весьма экологичный метод. Сам порошок, конечно, неэкологичен, но, если соблюдать все условия, порошковая металлургия наносит куда меньший вред окружающей среде, чем литейное производство. Поэтому за границей она интенсивно развивается.
Впрочем, в последнее время и в России в целом, и в Пермском крае в частности появились определенные сдвиги к лучшему.
Говорят, что ваш центр выжил только благодаря появлению «Новомета», директор которого получил Строгановскую премию вместе с вами. Как вообще удается вести фундаментальные исследования в условиях рынка?
«Новомет», конечно, наше дитя, которое сегодня уже стало взрослым. Туда ушла часть наших докторов и аспирантов, создавших вполне успешный бизнес, потому что они не стали цепляться за изготовление именно порошковых изделий, а специализировались на выпуске готовой продукции с очень высокими эксплуатационными свойствами. Это позволило им выйти на хороший рынок.
А центру вполне достаточно такого объема производства, который позволяет зарабатывать средства для фундаментальных исследований. Ведь до недавнего времени фундаментальная наука финансировалась очень плохо. А если точнее – практически не финансировалась вообще.
Но ведь для ваших исследований необходим очень высокий уровень технической оснащенности. Как вы решали проблему модернизации оборудования все эти годы?
Раньше приобретали оборудование на собственные средства. А когда ПГТУ выиграл грант министерства образования, в 2007 году получили 70 миллионов рублей на покупку исследовательской аппаратуры. В этом году приобретаем на такую же сумму уникальное импортное оборудование, в том числе японскую установку по нанесению алмазных покрытий, по выращиванию алмазов и получению углеродных нанотрубок, которая будет единственной в РФ. В 2009 году грант ПГТУ закончится, но центру обещают выделить средства отдельно – для приобретения технологического оборудования.
Но тут нам мешает наше прошлое. В прошлом году, например, американцы отказались продавать запрошенное нами оборудование под предлогом, что оно может быть использовано по двойному назначению. Это неудивительно, ведь центр достаточно известен разработками для ВПК, по заказам которого в основном и работал. Но мы продолжаем бороться и идем по пути привлечения к нашим проблемам, скажем так, более высоких инстанций.

Надо полагать, на федеральном уровне? Охватывает почтительный трепет перед значением ваших задач…
Почтительного трепета не надо, зато надо, чтобы вузовская наука перешла на систему оплаты как в академии наук. Хотя бы это. Я своей властью ввел систему стимулирования за публикации в журналах ВАКА, но это не решает проблемы, потому что рост зарплаты тут же срезает средства на исследования.
А на уровне региона можно что-то сделать?
- На уровне региона раньше существовали программы с небольшим финансированием из краевого бюджета, но в этом году такие конкурсы почему-то не были объявлены. Наверное, это связано с тем, что идет трансформация власти, хотя мне не совсем понятно, почему от этого должна страдать наука. Ведь процесс шел не без взаимной пользы: выиграв грант или проект, мы отдавали полный отчет в собственность края, авторские свидетельства делили на паях, 50 на 50. Та же работа с калийщиками началась именно по программе краевой администрации. А теперь финансирование прекратилось, и я всяческими способами изыскиваю, как заплатить зарплату. Надеюсь, что изменения все же произойдут, ведь регион наш не самый бедный, профицит краевого бюджета за 4 месяца составил 2 миллиарда рублей.
Вот бы все эти средства на науку…
Вот это уж чистая фантастика! Впрочем, мне известны примеры более внимательного отношения к фундаментальным исследованиям в других регионах. В мае на последнем общем собрании в академии наук ко мне подошел член-корреспондент из Самарской области с предложением о сотрудничестве. Оказалось, что администрация Самарской области выделила 200 миллионов рублей на создание наноцентра. Такую же сумму выделило министерство образования, придерживающееся принципа равного софинансирования с регионами. Что мешает администрации Пермского края направить Фурсенко такой же проект, пока у него деньги не закончились? Кроме того, где-то в коридорах исполнительной власти до сих пор блуждает предложение ПГТУ о создании технопарка, о котором в свое время столько говорилось как об одном из условий начала движения экономики края по инновационному пути.
Похоже, как-то вяло край по нему движется…
Между тем потенциал у него огромный! Я свидетельствую это как человек, 50 лет занимающийся наукой в Прикамье. У нас хватит мозгов и на технопарк, и на наноцентр – была бы политическая воля.
Алексей Клочихин
http://dp.perm.ru/article.php?…
Пермский государственный технический университет

Республиканский инженерно-технический центр порошковой металлургии
http://www.infogeo.ru/metalls/firm/?…
http://iii04.pfo-perm.ru/…nia_PGTU.htm
http://vuzinfo.ru/…/frameru.htm?…
АНЦИФЕРОВ Владимир Никитович
- Действительный член (академик) РАН по Отделению физикохимии и технологии неорганических материалов (2000), генеральный директор Республиканского инженерно-технического центра порошковой металлургии, заведующий кафедрой композиционных и порошковых металлов, покрытий Пермского государственного технического университета; родился 26 ноября 1933 г. в г. Владивосток; окончил Московский институт стали и сплавов в 1957 г.; лауреат Государственной премии СССР; главные направления научной деятельности: проблемы теории и практики материаловедения, порошковой металлургии; женат, имеет ребенка.
На этот год приходится его 75-летний юбилей…
http://www.viperson.ru/wind.php?…
Вот, оказывается, специалисты в области порошковой металлургии и керамики уже испокон веков занимались нанотехнологиями, только знали об этом немногие… И теперь знания и опыт этих специалистов могут пригодиться для развития отечественной отрасли НТ. Новых им успехов и удач! И персональные поздравления и добрые пожелания дорогому Владимиру Никитовичу в связи с его юбилеем!..
- nikst's блог
- Войдите на сайт для отправки комментариев
 Сайт о нанотехнологиях #1 в России
Сайт о нанотехнологиях #1 в России